8 декабря отмечает своё день рождение Владимир Гиляровский, человек уникальный, в равной степени принадлежащий отечественной журналистике, художественной и публицистической литературе, военной истории и даже спорту.
Его фамилия происходит от латинского Hilaris – «веселый, радостный». Он вполне оправдывал такую характеристику. И добавил к ней множество других ярких эпитетов – авантюрный, неутомимый, вездесущий.
Знакомясь с биографией Владимира Гиляровского, сложно представить себе, что столь разнообразную жизнь мог прожить один человек. Атлет, силач, гимнаст, цирковой и драматический артист, солдат, борец… Без каждого из этих увлечений и поприщ представить Гиляровского невозможно. Он сражался на турецкой войне 1877–1878 годов – на Балканах. Освобождал болгар. Смело ходил в разведку, все превращал в шутку. После войны он несколько лет еще актерствовал по всей России, но в конце концов осел в Первопрестольной. Немного играл на сцене, писал о театре. А потом целиком посвятил себя журналистике, сочинению книг и стихов – и стал королем репортеров и авторов книг, вокруг которых заваривались скандалы. Все, к чему он имел отношение, раскупалось без проволочек. Таков Гиляровский. Он не боялся заглядывать в самые зловещие притоны. Во-первых, его уважали повсюду, а во-вторых, Гиляровский надеялся на силушку богатырскую, о которой ходили красочные пересуды. В саду «Эрмитаж» стояла хитрая машина для измерения силы, так Владимир Алексеевич, поднимая ее рычаг, просто вырвал из земли всё это тяжелейшее устройство. Для такого молодца, конечно, были открыты все двери.
Странная манера одеваться: кисметы, папахи, кафтаны, шубы на кенгуровом меху, щегольские запорожские усы. Плечистый, как медведь, однако невысокого роста, он был узнаваем – творимая легенда, не иначе. Многие помнят, как он мог узлом завязать, а потом выпрямить кочергу. Гиляровскому бы жить во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых набегов, бесшабашной отваги. По строю своей души Гиляровский был запорожцем. Недаром Репин написал с него одного из своих казаков, пишущих письмо турецкому султану, а скульптор Андреев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на своем памятнике Гоголю.
«Дядя Гиляй» — автор уникальных рассказов о «старой», дореволюционной Москве. Герои его произведений «Москва и москвичи» или «Трущобные люди» — базарные карманники и богатые купцы-воротилы, спившиеся аристократы и неграмотные слуги, полицейские приставы и профессиональные разбойники, картежники и малолетние проститутки. В своих произведениях Владимир Гиляровский отразил быт той Москвы, о которой большинство авторов предпочитало не писать. Произведения Гиляровского тем ценны, что практически все они — про людей или действительно существовавших, или имевших свои реальные прототипы. Придумывать сюжеты для большинства своих произведений «дяде Гиляю» не было надобности — хватало воспоминаний и историй из собственной жизни, из круга многочисленных и абсолютно разных знакомых и приятелей. Да и жизнь Гиляровского выпала на очень интересные времена — он был свидетелем масштабных перемен, происходивших в российской истории. Застал эпохи Александра II и Александра III, правление последнего русского царя Николая II, Февральскую и Октябрьскую революции, годы НЭПа и советской индустриализации.
Ко дню рождения писателя, мы предлагаем читателям познакомится с книгой краеведа и журналиста Алексея Митрофанова «Гиляровский».
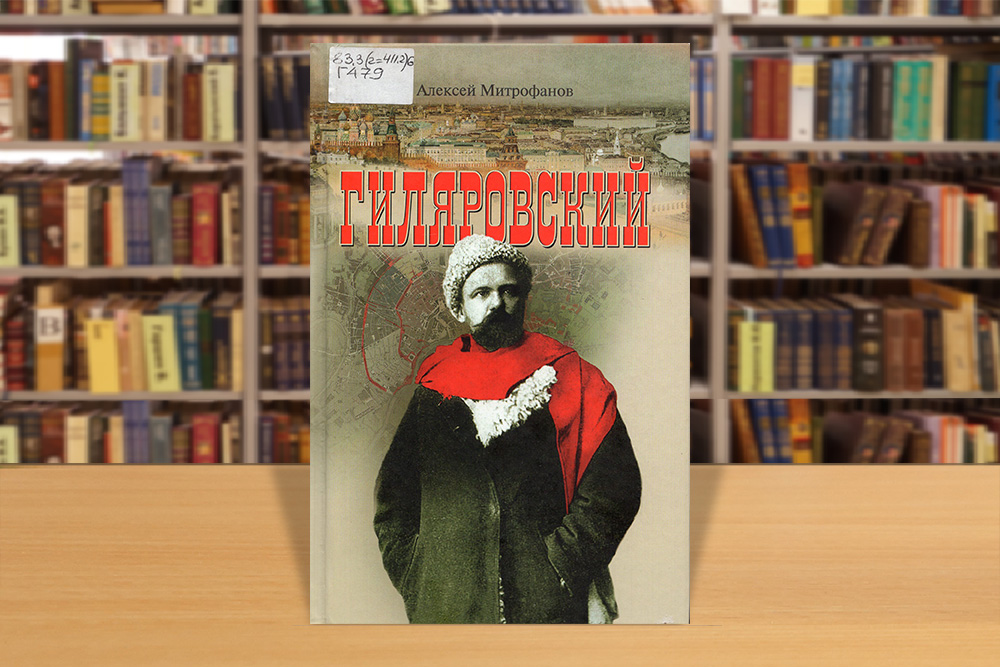
Митрофанов, А. Г. Гиляровский : [16+] / Митрофанов Алексей Геннадиевич, Гиляровский Владимир Алексеевич ; Алексей Митрофанов. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 307, [2] с. : ил. ; 21. - Библиогр.: с. 307-308. - ISBN 978-5-235-04148-6.
Краевед и журналист Алексей Митрофанов взглянул на эту колоритнейшую личность без цензурных предвзятостей, но и без установки на «срывание масок». Получилась своего рода россыпь житейских историй, бытовых сценок, анекдотов и баек, лучше всяких академических монографий характеризующих Гиляровского. Даровитый покоритель столицы, знаток российской жизни от верха до низа, друг и приятель «всей Москвы», великодушный великан, силач и эксцентрик; прожженный газетчик, готовый запродать душу за эксклюзивный факт – таким предстает в этой книге автор «Москвы и москвичей» и «Моих скитаний».
Конечно, за героем книги водились кое-какие мелкие грешки (в общении не всегда бывал излишне деликатен, да и факты, бывало, подтасовывал в угоду эффектности репортажа). Но в целом его фигура излучает незаурядное обаяние. То ли и впрямь Владимир Алексеевич за всю жизнь никому всерьез не насолил, то ли Алексей Митрофанов из краеведческой солидарности попридержал негативные факты о своем герое – только получился Гиляровский в этой книжке прямо почти как Шаляпин на известной картине Кустодиева. Широкая, удалая русская натура, кровь с молоком. Из народа, да с талантом. Душевный, хлебосольный. Крепок телом, духом самобытен. В книжке помимо прочих историко-бытовых вкусностей приведены умилительные истории о свернутых в узел кочергах, о дружбе с босяками-хитрованцами, о дерзких противоправительственных эпиграммах и даже о редактировании Гиляровским революционных прокламаций. Отделить легенды от фактов, когда речь идет о такой «былинной» личности, непросто.
Много интересного рассказывает книга и о специфике работы дореволюционного репортера. Начинал Гиляровский в эпоху, когда ни телефоном, ни автомобилями еще не пахло. Газетчиков в буквальном смысле кормили ноги и житейская сноровка. В одной из своих заметок Гиляровский признавался — вроде бы с бравадой, но и не без горечи: «У бродяги мемуаров нет — есть клочок жизни. Клочок там, клочок тут — связи не ищи… Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем завтракаешь в „Эрмитаже“, ночью, добывая материал, бродишь по притонам Хитрова рынка. Сегодня, по поручению редакции, на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра — едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны, — и вот — дымится джулун. Над костром в котелке кипит баранье сало… Ковш кипящего сала — единственное средство, чтобы не замерзнуть в снежном буране, или, по-донскому, шургане… Антон Рубинштейн дирижирует в Большом театре на сотом представлении «Демона», присутствует вся Москва в бриллиантах и фраках, — я описываю обстановку этого торжественного спектакля; а через неделю уже Кавказ, знакомые места, Чертова лестница, заоблачный аул Безенги, а еще выше, под снежной шапкой Коштантау, на стремнинах ледяного поля бродят сторожкие туры. А через месяц Питер — встречи в редакциях и на Невском… То столкнешься с Далматовым, то забредешь на Николаевскую, 65, к Николаю Семеновичу Лескову, то в литературном погребке на Караванной смотришь, как поэт Иванов-Классик мрачно чокается с златокудрым, жизнерадостным Аполлоном Коринфским, и слушаешь, как восторженный и бледный Костя Фофанов, закрыв глаза, декламирует свои чудесные стихи, то у Глеба Успенского на пятом этаже в его квартирке на Васильевском острове, в кругу старых народников рассказываешь эпизоды из своей бродяжной жизни бурлацкой… А там опять курьерский поезд, опять мечешься по Москве, чтобы наверстать прошедшую прогульную неделю».
Наш герой имел целый корпус платных осведомителей в самых разных слоях общества – от властных структур до уголовного мира. Он одним из первых в русской журналистике стал широко (и без лишней щепетильности) пользоваться инсайдерской информацией. По-видимому, Гиляровский «обладал недюжинными экстрасенсорными способностями», предполагает Митрофанов, отсюда и необычайное чутье на горячую новость. Умел Владимир Алексеевич работать и со свидетелями. Наверное, из него мог бы получиться хороший сыщик. Недаром, замечает биограф, ходили слухи об особых связях Гиляровского с полицией. Но это лишь слухи.
А вот своих особых отношений с московскими огнеборцами «король репортеров» не скрывал. Для него всегда было забронировано место на облучке пожарного экипажа, мчащегося гасить пламя. В деревянной Москве 1880-х годов успеть к тушению пожара и запечатлеть сие в красочно-драматичном репортаже считалось у газетчиков вершиной профессионализма. Гиляровский почти всегда успевал. Пожары он любил и частенько сам бросался тушить огонь, удивляя коллег-журналистов своей бесшабашностью. «Меня знали все брандмейстеры и пожарные, и я лазил по крышам, работал с топорниками, а затем уже, изучив на практике пожарное дело, помогал и брандмайору. Помню – во время страшного пожара в Зарядье я спас от гибели обер-полицмейстера Козлова, чуть не рухнувшего в подгорелый потолок» – писал он в 20-е годы. И в нынешней, каменной Москве репортеру - «пироману» Гиляровскому нашлась бы работа «по профилю».
«Ах, дорогой дядя Гиляй, крестный мой отец в литературе и атлетике, скорее воображу себе Москву без царя-колокола и царя-пушки, чем без тебя, ты — пуп Москвы!» - писал Александр Куприн. И с этим невозможно не согласится. Слава пережила Гиляровского более чем на восемьдесят лет - кто из журналистов может с ним сравниться?
Познакомиться с этой книгой, а также с произведениями Владимира Алексеевича Гиляровского вы можете в отделе абонемента (1 этаж, кабинет 103).
Светлана Галактионова, заведующая отделом абонемента (1 этаж, каб. 103, тел: 72-84-03)

