Я видел тайфун на Амурском заливе,
Я знаю печальный Цусимский пролив,
Грозу у Цейлона, светящийся ливень,
И волн Океана разгневанный взлив.
П. Булыгин, потомственный дворянин, поэт, офицер Русской императорской армии
Удивительное богатство образов и мотивов дарит нам русская литература, среди них наиболее любимыми и поэтичными всегда были и остаются образы моря и кораблей. Они являются своеобразными символами вдохновения, морской славы России и высокой мечты, ведь именно лучезарность моря, синева его оттенков, стала основой для богатейшей палитры красок поэтических произведений, связанных с морской тематикой. Поэтам начала 20 века - участникам Первой мировой войны, выпала нелёгкая творческая доля, как и сама трагическая действительность их судьбы. Возвышенный и утончённый талант этих поэтов столкнулся с суровой реальностью политических событий России того времени, мучительными испытаниями войной, а далее, революцией и эмиграцией, поэтому их строки не только произведения высокого искусства, наполненные высочайшим патриотизмом, но и своеобразная летопись того времени.
В этом и есть особый смысл интереснейшей и великолепно изданной книги «Поэты Первой мировой войны. Антология», подготовленной писателем Анатолием Кирилловичем Соколовым по идее и инициативе Бориса Александровича Орлова, к столетию Луцкого прорыва Юго-Западного фронта стратегической обороны австро-венгерской армии в мае 1916 года.
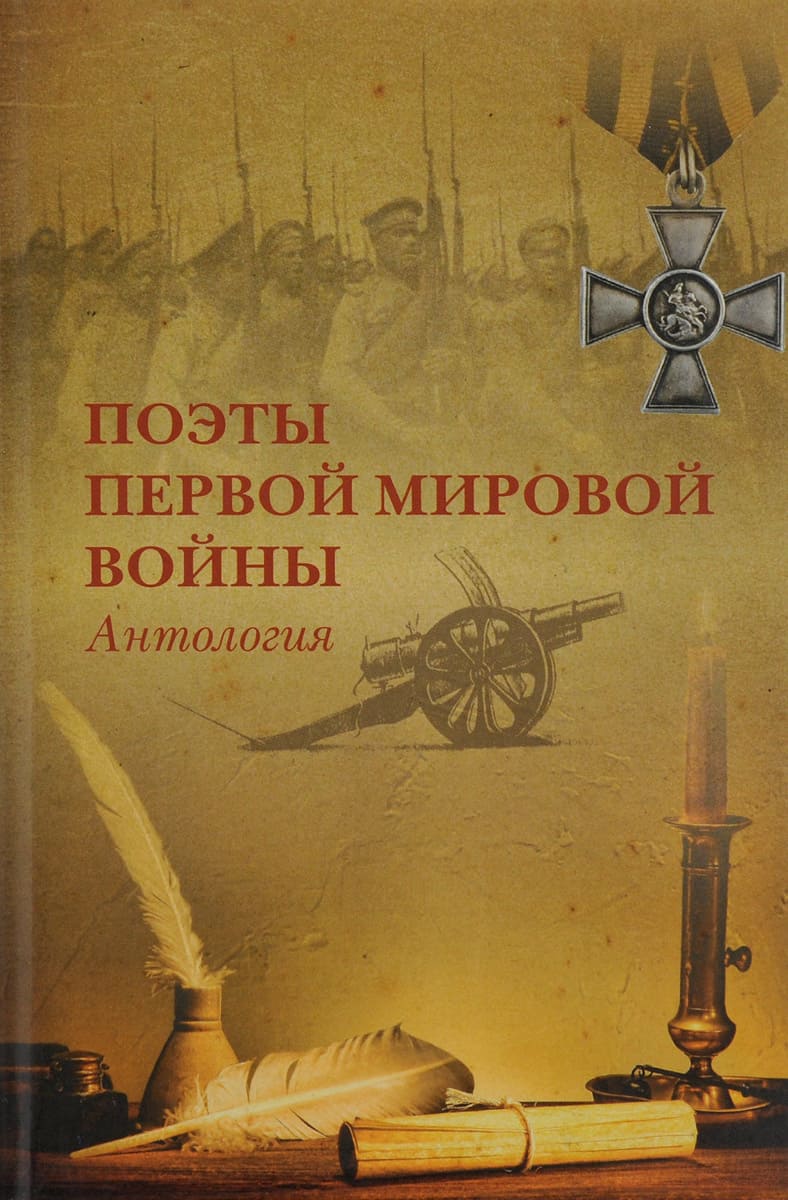 Поэты первой мировой войны : антология / Анатолий Кириллович Соколов, Борис Александрович Орлов ; составитель Анатолий Соколов ; автор идеи - редактор Борис Орлов. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : Центр современной литературы и книги на Васильевском, 2017. - 590, [1] с., [2] л. цв карт. : ил., портр. ; 22. - (Проект Вячеслава Заренкова Созидающий мир) (Просветительная программа Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России). - Библиогр. с. 587-588 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-94422-042-4.
Поэты первой мировой войны : антология / Анатолий Кириллович Соколов, Борис Александрович Орлов ; составитель Анатолий Соколов ; автор идеи - редактор Борис Орлов. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : Центр современной литературы и книги на Васильевском, 2017. - 590, [1] с., [2] л. цв карт. : ил., портр. ; 22. - (Проект Вячеслава Заренкова Созидающий мир) (Просветительная программа Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России). - Библиогр. с. 587-588 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-94422-042-4.
Составитель не только поэт-маринист, но и капитан первого ранга, служивший на Северном флоте, и знающий тему моря и кораблей совершенно не понаслышке. Собранные материалы раскрывают творчество уже известных и состоявшихся поэтов России с новой стороны, скажем так, со стороны моря, а главное, книга называет имена и рассказывает о произведениях совершенно не известных авторов, которые были не только служителями музы, но и героями, именно участниками тех событий.
Сама тема исследования и публикации не нова – ценители поэзии помнят, что практически все авторы так называемого «серебряного века» русской литературы посвятили свои лиры Великой войне – именно так в августе 1914 года в России назвали войну с кайзеровской Германией. И не только рифмовали, но и сами служили и воевали… Литераторы: Николай Гумилев, Арсений Несмелов, Сергей Есенин, как и миллионы их сверстников-соотечественников, надели погоны в 1914-м. Строго судить – Россия и ее народ практически находилась в состоянии постоянной войны с 1914 по 1954 годы, когда окончательно отменилась угроза третьей мировой войны. И эта эпоха не могла не найти отклика в рифмах не только «маршалов русской рифмы», тех, творчеству которых посвящены тома маститых литературоведов, а в почерках сотен малоизвестных талантов, которые и смогли оставить после себя 1-2 стихотворения, перед тем, как сгинуть в пекле «империалистической войны».
Отличительной чертой работы Анатолия Соколова является именно это: он, как археолог, извлек из пластов забвения и вновь предъявил миру забытые имена народных поэтов той войны. Зачем, спросите вы, ведь неизвестный безусый прапорщик вряд ли мог написать лучше, чем «корнет русской литературы» Николай Гумилев – профессиональный литератор? А затем, что именно это - память о прошлом.
Книга включает в себя биографии и стихи 82-х поэтов. 82 поэта выстроены в алфавитном порядке, как в списке воинской части. И малознакомая нам Великая война предстаёт совсем по-другому. А иначе и быть не может, поскольку только поэт способен описать великое. Так уж повелось со времён Гомера.
Книга эта будет незаменимым путеводителем не только в мире поэзии, но и в мире истории прежде всего для подрастающего поколения. Для молодёжи. Каждая биография – страничка прошлого нашего Отечества. Каждое стихотворение наполнено любовью к нему. Сергей Есенин и Яков Аракин, князь Фёдор Касаткин-Ростовский и Демьян Бедный, Борис Савинков и Александр Блок, Бенедикт Лившиц и Николай Бурлюк. Пока ещё все они - по одну, Российскую, сторону, в одной, Русской армии. Все ещё живы! О, какие горы вместе могли бы свернуть эти молодые люди, причём, не только в поэтических баталиях, если бы…
Но история не терпит сослагательного наклонения. Поэты воевали геройски. За героизм были награждены. Например, Павел Булыгин, эпиграфом чьего стихотворения предварен обзор, за бой под Владимиром-Волынским был награждён орденом Св. Анны 4 степени с надписью: "За храбрость"; поэт и лётчик Николай Бруни был награждён тремя Георгиевскими крестами; а русский генерал, писатель и поэт Георгий Гончаренко (псевдоним Юрий Галич) был награждён орденами Св. Святослава 3-й степени, Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 3-й степени с мечами и Георгиевским оружием.
И это не считая известнейшего поэта и офицера Николая Гумилёва, награждённого двумя Георгиевскими крестами и орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
Воевали геройски.
 Гвардейский офицер Павел Булыгин со свойственной всем поэтам сумасшедшинкой в поступках, в 1918-м, возглавив небольшой отряд, предпринял безумную и неудавшуюся попытку спасти Государя Императора и его семью из екатеринбургского плена. В дальнейшем, получив распоряжение вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны, находящейся в Крыму, он отправился через Чёрное море, Турцию, Грецию, Францию, Англию, Красное море, Индийский океан, Японию, Владивосток - в ставку адмирала А.В. Колчака для выяснения истинного положения царской семьи. Потрясающе ярким примером русского стихосложения встают перед нами строки поэта об этой экспедиции:
Гвардейский офицер Павел Булыгин со свойственной всем поэтам сумасшедшинкой в поступках, в 1918-м, возглавив небольшой отряд, предпринял безумную и неудавшуюся попытку спасти Государя Императора и его семью из екатеринбургского плена. В дальнейшем, получив распоряжение вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны, находящейся в Крыму, он отправился через Чёрное море, Турцию, Грецию, Францию, Англию, Красное море, Индийский океан, Японию, Владивосток - в ставку адмирала А.В. Колчака для выяснения истинного положения царской семьи. Потрясающе ярким примером русского стихосложения встают перед нами строки поэта об этой экспедиции:
Я видел тайфун на Амурском заливе,
Я знаю печальный Цусимский пролив,
Грозу у Цейлона, светящийся ливень,
И волн Океана разгневанный взлив.
Но Чёрное море в капризах коварней, -
Твердят моряки с незапамятных пор,
Я помню и снежную вьюгу у Варны,
А после – горячий закатный Босфор.
Всю ночь ураган, как разгневанный мститель,
Ревел голосами, по птичьи свистел,
В волну зарываясь, дрожал истребитель
И на бок ложился, и тяжко скрипел.
К сожалению, поэт-воин оказался в Екатеринбургской тюрьме, откуда, к досаде охранников, не дожидаясь расстрела, умудрился сбежать. После Гражданской войны жил в Прибалтике, в середине тридцатых годов перебрался в Парагвай, где и скончался в 1940-м.
От болезней, - но на свободе! – ушли в мир иной поэты: гусарский штабс-ротмистр Борис Бета (во Франции, в 1931-м) и прапорщик-артиллерист Иосиф Калинников (в Чехословакии, в 1934-м). А вольноопределяющийся Вадим Шершеневич вообще скончался на Родине – в эвакуации, в 1942-м, в Барнауле. Но далеко не всем так, по-человечески, везло.
Многих поэтов выкосила картечь репрессий тридцатых годов… Георгиевского кавалера Евгения Шкляра убьют немцы - в 1941-м, в лагере под Каунасом. Во время Варшавского восстания 1944 года погибнет Юрий Лисовский. А вот Иван Грузинов в 1942-м умер в подмосковном Кунцеве от голода…
Листаешь страницы – и убеждаешься: творчество некоторых поэтов нам, оказывается, давно знакомо. Кроме упоминавшегося стихотворения «Четвёртые сутки пылают станицы», широко известными песнями стали «Волчья страсть» (победитель «Песни года-2002»), «Каждый хочет любить, и солдат, и моряк…» Их написал кавалер четырёх орденов, поручик 11-го Фанагорийского полка Арсений Митропольский (поэтический псевдоним – Несмелов). Выпускник графа Аракчеева кадетского корпуса Митропольский умер в пересыльной тюрьме НКВД в 1945 году. Вместо могилы на память потомкам остались шесть книг стихов.
Одному из первых поэтов России – крупнейшему поэту 20 столетия, Александру Блоку, во время Первой мировой войны суждено было быть призванным на службу в инженерную бригаду Всероссийского земского союза в Белоруссии. Он провёл на фронте семь месяцев, и к тому времени, как известно, Александр Блок уже был сложившимся поэтом. Мотивы моря и кораблей пронизывали всё его творчество, а ещё в 1898 году, на заре своего поэтического восхождения, Александр Блок писал:
Жизнь - как море, она - всегда исполнена бури.
Зорко смотри, человек: буря бросает корабль,
Если спустится мрачная ночь - управляй им тревожно,
Якорь спасенья ищи - якорь спасенья найдёшь…
 Но в лиловые сумерки символизма и расцвета высочайшего поэтического воображения Александра Блока суждено было ворваться событиям Русско-японской войны (1904-1905), которая стала неким роковым предзнаменованием событий Первой мировой войны и революции. С детства мечтавший стать моряком, Александр Блок тяжело переживал гибель нашей эскадры и русских матросов и офицеров. Так появилось одно из самых загадочных и самых молитвенных стихотворений 20-го века «Девушка пела в церковном хоре…»:
Но в лиловые сумерки символизма и расцвета высочайшего поэтического воображения Александра Блока суждено было ворваться событиям Русско-японской войны (1904-1905), которая стала неким роковым предзнаменованием событий Первой мировой войны и революции. С детства мечтавший стать моряком, Александр Блок тяжело переживал гибель нашей эскадры и русских матросов и офицеров. Так появилось одно из самых загадочных и самых молитвенных стихотворений 20-го века «Девушка пела в церковном хоре…»:
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, - плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
Без единой географической привязки к месту происходящего, само стихотворение, будто огромный и невесомый корабль парит над пластами нашей литературы, являясь своеобразным пением для всех верующих людей. А строки Блока? Написанные в августе 1905 года, вошли в цикл «Разных стихотворений» (1904–1905) «Второй книги» поэта. Они словно проявляют историческую картину тех событий: «О всех кораблях, ушедших в море...» - это же и есть тот самый боевой поход военных крейсеров Владивостокской эскадры «Россия», «Рюрик», «Громобой», в котором погибло огромное количество сыновей русской земли, многие были ранены, захвачены в плен. А поэтическая строка: «Что в тихой заводи все корабли…» - конечно же, в первую очередь, успокоение всем, чьи близкие получили ранения или погибли в Цусимском морском бою или сражениях Порт-Артура. И далее, упоминание Царских врат как символа Божественного рая говорит нам о высоком предначертании стихотворения, его соборности, вселяет в нас истинные надежды и чаяния.
Это молитва о погибших и не вернувших с войны, наполненная верой в светлое будущее и надеждой, что она будет услышана.
Другой значительный поэт начала XX века Николай Гумилёв тоже стал героем Первой мировой войны. Родившись в морском городе Кронштадте, в семье корабельного врача, Николай с детства был окружён морем и, несмотря на то, что ещё в детстве он покинул Кронштадт и уехал в Царское Село, а затем в Тифлис, свежий морской кронштадский воздух навсегда сделал его поэзию истинно морской и мечтающей о далёких путешествиях и неизведанных странах. Тема моря и кораблей в поэзии Николая Гумилёва достаточно хорошо изучена, поэтому позволим себе остановиться только на основополагающих моментах. Так, в знаменитом стихотворении «Капитаны» встаёт яркий и истинно-поэтический образ моря:
Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, -
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернёт паруса.
Разве трусам даны эти руки,
Этот острый уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат.
 По воспоминаниям современников, Николая Гумилёва всегда влекло к опасности, а во время шторма на корабле, он будто радовался объятиям мощной морской стихии. Как известно, в начале Великой войны, Гумилёв пытался отправиться добровольцем на фронт, но его признали негодным к службе из-за косоглазия и хромоты, но он сам выучился кавалерийской езде, стрельбе с левой руки и добился отправки на Салоникский фронт.
По воспоминаниям современников, Николая Гумилёва всегда влекло к опасности, а во время шторма на корабле, он будто радовался объятиям мощной морской стихии. Как известно, в начале Великой войны, Гумилёв пытался отправиться добровольцем на фронт, но его признали негодным к службе из-за косоглазия и хромоты, но он сам выучился кавалерийской езде, стрельбе с левой руки и добился отправки на Салоникский фронт.
В 1921 году поэт издал свою лучшую книгу стихотворений «Огненный столп», которая внесла в русскую поэзию богатство мужественного стиля, а стихотворение «Заблудившийся трамвай» оказалось подлинным пророчеством кровавых событий предстоящего времени. Мотивом небесных сполохов взлетел в поэзии Гумилёва огненный вихрь, а точнее огненная дорожка заблудившегося трамвая («В воздухе огненную дорожку Он оставлял и при свете дня…»), которое смело можно отнести к означенной теме, ибо этот трамвай-корабль, летящий сквозь времена, становится образом того самого знаменитого Летучего Голландца, о котором и упоминалось Николаем Гумилёвым ещё в цикле стихотворений «Капитаны»:
Но в мире есть иные области,
Луной мучительной томимы.
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы.
Там волны с блесками и всплесками
Непрекращаемого танца,
И там летит скачками резкими
Корабль Летучего Голландца.
Образу моря и кораблей посвящены строки многих известных поэтов-участников Первой мировой войны: Валерия Брюсова, Сергея Городецкого, Александра Вертинского, Николая Асеева, Рюрика Ивлева. Вот стихотворение Ивлева «Рижский бой»:
Блеснуло солнце из-за тучи,
И стало ярче и светлей,
Недосчитался враг могучий
Своих тяжелых кораблей.
Как птицы, вести долетели
О поражении врагов,
И воды Балтики запели
О славе наших моряков.
Их много, как оказалось, даже очень много - известных, составивших славу России, и незаслуженно забытых поэтов, сражавшихся на фронтах Первой мировой. Стихи и судьбы, судьбы и стихи. От этой книги невозможно оторваться. «Нам, конечно же, удалось рассказать не обо всех поэтах Первой мировой. Главное - сделан первый шаг по восстановлению исторической справедливости», - написал в предисловии редактор книги, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов.
Мы с вами видим, как тема моря раскрывается с патриотической, скажем так, стороны. Но все же, все же. Эти поэты - представители Серебряного века, века, который длился всего 30 лет…Они – сначала воины и потом поэты или, наоборот, поэты, ставшие воинами в минуту, когда враг у ворот. Все встали на защиту Родины. Они – небожители, поцелованные господом и наделенные им особенным восприятием мира и ощущением своего предназначения на этой земле…
Но есть и другая «сторона медали»…
Ведь все 82 человека до войны очень нежные лирические стихи. О море – тоже. А во время войны море у них было другое, грозовое.
**********
И катятся-катятся по тропинкам серебряными капельками росы их сладкоструйные пассажи.
Ну вот что может быть романтичнее… аромата моря, флера морского прибоя, крика чаек, лазоревого неба над морской гладью или, наоборот, свинцового во время грозы?
Мы говорим о «серебряных нитях» русской поэзии - Бальмонте, Цветаевой, Бунине, Мережковском…
Из диалога:
- Мережковский?
- Что такое?
- Красиво.
- Да что красиво-то?
- Красиво звучит. Красивое положение. Стихи, критика, романы. Бог. Все красиво. Вообще красиво. Около Мережковского красивый воздух. Над Мережковским красивое небо.
- Но он сам-то, сам?
- Ах, убирайтесь к черту… Сказано: красиво, - и нюхайте!
Вот так. Нюхайте! И правда, если вслушаться в стихи Мережковского, какой аромат…
А диалог этот, довольно откровенный, на мой взгляд, из предисловия издательства Вольф перед изданием собрания сочинений Мережковского в 1911 году. Оно выпустило критику о поэте, в сущности нисколько не впав в ошибку или преувеличение, т. к. вполне адекватно отразило то мнение, которое господствовало в общественных кругах.
В истории общественной мысли понят Мережковский пока не очень хорошо, считает автор послесловия к сборнику «Дмитрий Мережковский «Больная Россия»» доктор философских наук Сергей Соловьев, куда вошли две статьи Мережковского « Грядущий хам», написанная в 1906 г. и «Больная Россия», 1910 г. , а также извлечения из дневников З. Гиппиус, которые она сама считала утерянными.
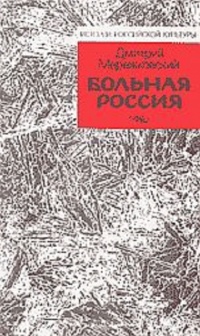 Мережковский, Д. С. Больная Россия / Мережковский Дмитрий Сергеевич. - Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1991. - 272 с. - (История российской культуры).
Мережковский, Д. С. Больная Россия / Мережковский Дмитрий Сергеевич. - Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1991. - 272 с. - (История российской культуры).
«Кто он, - спрашивает Соловьев, - писатель? Поэт? Религиозный философ? Политик? Как его назвать. Вечно с Евангелием в руках и с Христом на устах. Он всегда делал как будто не свое дело, однако писал всегда – талантливо. И это уже очень много. Ведь даже материал, употребляемый живописцем или скульптором, очень беден по сравнению со словом. У слова не только краски, живые и теплые, не только пластичные формы, не менее изысканные, чем они открываются в бронзе или мраморе, у слова есть музыка, мысль одухотворенность.
Через 100 лет, в начале 21 века мы, читатели, заново открываем для себя творчество тех поэтов, к которым относятся строки:
Их участь - умирать в отчаяньи немом;
Им гибнуть суждено, едва они блеснули,
От злобной клеветы, изменнической пули
Или в изгнании глухом.
Автор этих слов - Дмитрий Сергеевич Мережковский. Он долгие годы оставался на задворках литературы. Стоит ли говорить, что в советское время облик писателя искажался до неузнаваемости. Между тем с литературной и общественной деятельностью Мережковского связано становление русского символизма, а значит - развитие духовной культуры нашей страны. При некогда ошеломляющей популярности у современников (как на родине, так и за рубежом), жизнь и творчество этого замечательного, исключительного по своим достоинствам и недостаткам человека до сих пор остаются не полностью исследованными. Автор книги «Дмитрий Мережковский : из жизни до эмиграции: 1865-1919» российский литературовед, доктор филологических наук, профессор МГУ Алексей Холиков предлагает восполнить этот пробел.
 Холиков, А. А. Дмитрий Мережковский : из жизни до эмиграции: 1865-1919 / Алексей Александрович Холиков. - Санкт-Петербург : Алетейя : Историческая книга, 2010. - 150, [1] с., [8] л. ил. : портр., факс. ; 21. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр. работ Д. С. Мережковского: с. 149-150. - ISBN 978-5-91419-341-3.
Холиков, А. А. Дмитрий Мережковский : из жизни до эмиграции: 1865-1919 / Алексей Александрович Холиков. - Санкт-Петербург : Алетейя : Историческая книга, 2010. - 150, [1] с., [8] л. ил. : портр., факс. ; 21. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр. работ Д. С. Мережковского: с. 149-150. - ISBN 978-5-91419-341-3.
Нет, мы не будем воссоздавать постранично биографию литератора вслед за критиком, основные работы которого посвящены жизни и творчеству Д.С. Мережковского, теории литературы, текстологии, а также истории отечественного литературоведения XX века. Скажем только, что книга написана на основе архивных источников Российской государственной библиотеки (г. Москва), Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург и некоторых других.
Особое внимание автор уделил рассмотрению малоизученных тем, например, роли Мережковского в истории отлучения Льва Толстого от церкви, отношениям писателя с Андреем Белым, роли в его судьбе Корнея Чуковского).
Мережковский жил навстречу времени, в бесконечном вихре литературных, гражданских и мировых войн, но так до конца и не примирился с мучив шей его грубостью жизни.
Доброе, злое, ничтожное, славное, -
Может быть, это все пустяки,
А самое главное, самое главное,
То, что страшней даже смертной тоски, -
Грубость духа, грубость материи,
Грубость жизни, любви - всего;
Грубость зверихи родной, Эсэсэрии, -
Грубость, дикость - ив них торжество.
Может быть, все разрешится, развяжется?
Господи, воли не знаю Твоей,
Где же судить мне? А все-таки кажется,
Можно бы мир создать понежней!
 Мережковский всерьез собирался по окончании университета «уйти в народ», сделаться сельским учителем, но вскоре эти идеи оставили его. Стихотворение «Дон Кихот» и статья «Дон Кихот и Санчо Панса» помогают увидеть эволюцию «народнических» взглядов Мережковского. Но в первом поэтическом сборнике Мережковского «Стихотворения» (1883) отражаются не только народнические настроения, но и душевные метания поэта от любви и веры к ненависти и неверию. В целом книга произвела на современников положительное впечатление. Хотя не обошлось и без заслуженных обвинений в эпигонстве. «И дребезжащая струна Надсона, - писал критик, - и рассудочно-поэтическая диалектика г-на Минского отразились в стихотворениях г-на Мережковского. Вся самостоятельная, не переводно-компилятивная часть книги оказалась каким-то литературным вариантом уже знакомых стихотворений, с очень крупными, бросающимися в глаза недостатками: перепев г-на Мережковского фальшиво-тенденциозен, резонерски холоден, то вял и растянут, то несдержанно-криклив и несдержанно патетичен». Между тем, читая первый сборник Мережковского, невольно обращаешь внимание на строго выстроенную композицию, причинно-следственную связь между частями, удивительную логику, с которой автор составил свою книгу. Первые три раздела могут восприниматься только как целое. Связанные с помощью эпиграфов, они призваны рассказать об одиноком поэте, который готов принести себя в жертву толпе, природе, женщине и в то же время - бороться до последнего вздоха.
Мережковский всерьез собирался по окончании университета «уйти в народ», сделаться сельским учителем, но вскоре эти идеи оставили его. Стихотворение «Дон Кихот» и статья «Дон Кихот и Санчо Панса» помогают увидеть эволюцию «народнических» взглядов Мережковского. Но в первом поэтическом сборнике Мережковского «Стихотворения» (1883) отражаются не только народнические настроения, но и душевные метания поэта от любви и веры к ненависти и неверию. В целом книга произвела на современников положительное впечатление. Хотя не обошлось и без заслуженных обвинений в эпигонстве. «И дребезжащая струна Надсона, - писал критик, - и рассудочно-поэтическая диалектика г-на Минского отразились в стихотворениях г-на Мережковского. Вся самостоятельная, не переводно-компилятивная часть книги оказалась каким-то литературным вариантом уже знакомых стихотворений, с очень крупными, бросающимися в глаза недостатками: перепев г-на Мережковского фальшиво-тенденциозен, резонерски холоден, то вял и растянут, то несдержанно-криклив и несдержанно патетичен». Между тем, читая первый сборник Мережковского, невольно обращаешь внимание на строго выстроенную композицию, причинно-следственную связь между частями, удивительную логику, с которой автор составил свою книгу. Первые три раздела могут восприниматься только как целое. Связанные с помощью эпиграфов, они призваны рассказать об одиноком поэте, который готов принести себя в жертву толпе, природе, женщине и в то же время - бороться до последнего вздоха.
Мережковский был хорошим поэтом, считает автор книги. Его поэзия изобилует как большими (эпическими и драматическими), так и малыми (лирическими) формами. Однако, владея октавой не хуже, чем терцинами, Дмитрий Сергеевич не любил экспериментировать со стихом. Высокий уровень философского содержания позволял критикам называть его опыты «поэзией мысли». И чем больше мысль Мережковского углублялась, тем сложнее было выразить ее в рамках стихотворения. Выпустив три авторских сборника, а также два «Собрания стихов», наш герой перестанет печататься как поэт, то есть перестанет осознавать себя в этом качестве. «Вы знаете, я до чего дошел, - в 1900 году признается он. - Мне стихи чем-то лишним кажутся. Мне пищу для души подавай, а стихи что, детское». Но, несмотря ни на что, продолжит рифмовать. «В последние годы своей жизни, - пишет мемуарист, - он, лежа по вечерам у себя на кушетке, исправляет свои старые стихи - переставляет запятые, меняет слова, что-то вычеркивает, что-то прибавляет, потом отдает их в переплет».
Народничество народничеством, принесение себя в жертву толпе, женщине – это один круг поэтического дарования поэта. а вот природа, и конкретнее, морская тема, море – один из центральных природных символов Дмитрия Мережковского. Впечатления от моря для него – несравнимы ни с чем и всегда новы.
Я к берегу сошел: противны мне леса,
Где буйный пир весны томит меня тревогой,
Где душно от цветов, где жизни слишком много...
А здесь передо мной бездушная краса -
Здесь только волны, тучи, небеса;
Их вечный полусон таинственно безмолвный
Баюкает мой мозг, недугом знойным полный,
И притупляет боль сознанья моего,
И если долго я гляжу на эти волны,
Где все – движенье, блеск и шум.
Автор подчеркивает, что налюбоваться изменчивостью и непостоянством моря нельзя, каждую минуту водная гладь меняет свои оттенки, при этом оставаясь всегда неизменной в своей перманентной изменчивости, вариативности. Море – символ самой человеческой жизни, которая столь же изменчива и непредсказуема, однако, всегда и неизменно вариативна.
Тогда в груди моей уж больше нет страданий,
Надежд, любви, воспоминаний;
Я ничему не рад, мне ничего не жаль,
И весь я ухожу туда, в немую даль,
Что веет на меня знакомою печалью.
О как бы слиться нам, обняться крепче с ней,
Но так, чтоб эта даль могла остаться далью
Вблизи, вокруг меня, в глазах, в груди моей!
Мережковский - мастер внешне-театральной декорации, большого размаха крупных мазков, резких линий, рассчитанных не на партер и не на ложу бенуара, а на перспективу подпотолочной галереи; здесь его сила; это ему удается. То, что он рисует - это как бы большие кинематографические стройки, преувеличенные оперные декорации, гигантские сценические эскизы, или макеты для взволнованных массовых сцен разыгрывающихся на фоне античных городов или гор средиземного бассейна. Этим он пленяет и завораживает своих читателей; он подкупает их силу воображения, выписывая им роскошные аксессуары итальянских, греческих, малоазиатских, египетских пейзажей, моря…
Морю как символу самой человеческой жизни и маринистической системе поэзии Мережковского посвящена статья Веры Проскуриной «Морской комплекс в лирике Мережковского». Анализ стихотворений «Небо и море», «У моря», «Средиземное море» показывает, что в творчестве поэта реализуется два типа «морских ситуаций»: отношение к морю как природному объекту, передающему состояние лирического субъекта и изображение морской стихии. Понятие «морского комплекса» было введено литературоведом доктором филологических наук Владимиром Топоровым в его статье « О поэтическом «комплексе моря и его психофизиологических основах», опубликованной в книге «Миф. Ритуал. Символ. Образ», который считал, что море может быть представлено как объект изображения, а его свойства объективного характера легко становятся знаком иных семантических матриц (сравнение, сопоставление, параллелизм, аллегория, эмблема) и трансформируется в «заместители» других образов. Помимо этого, описание моря часто не является целью, а «подчиняется другим, более важным заданиям». Поэт может не изображать море, а использовать так называемый «морской код» неморского сообщения.
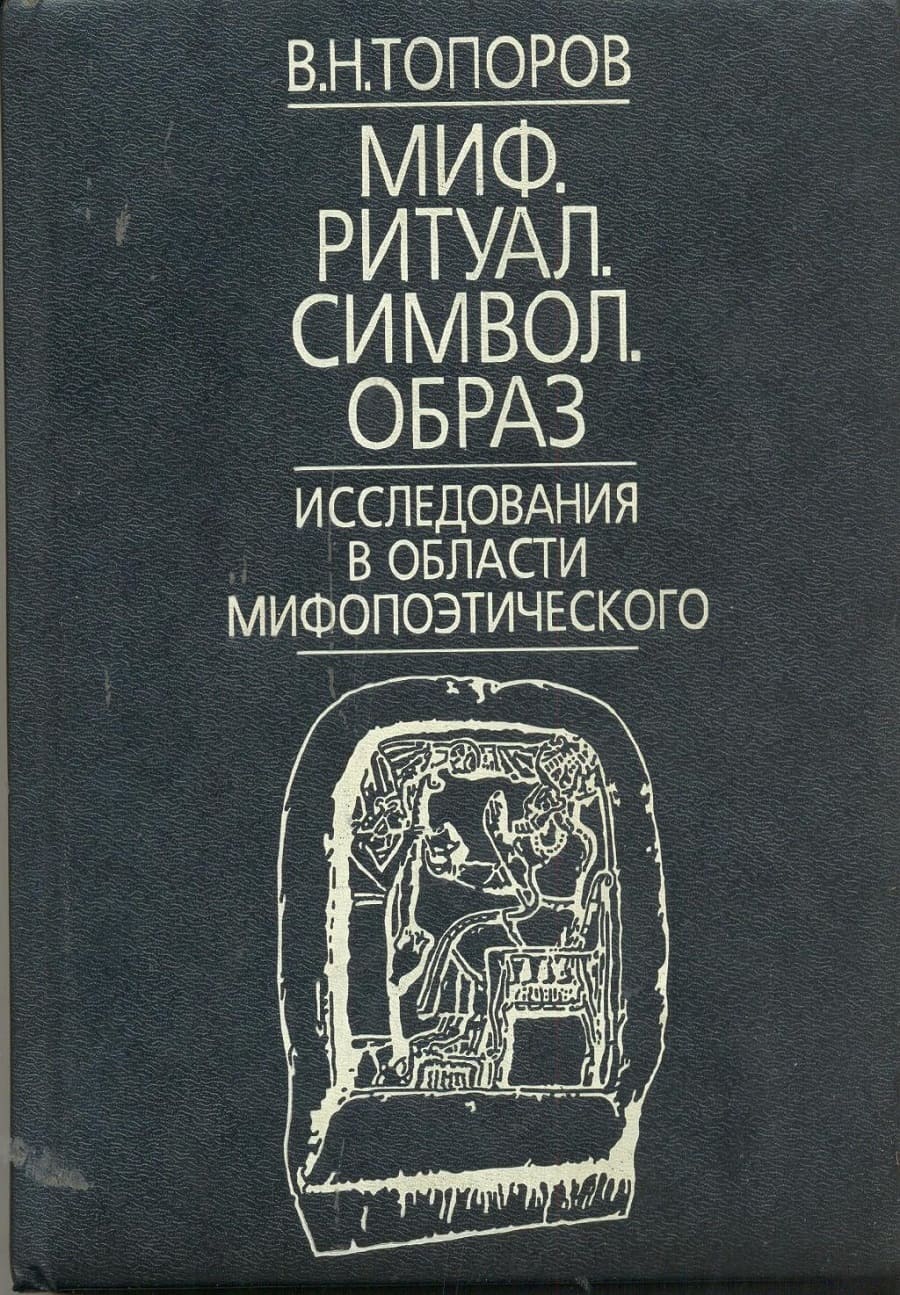 Топоров, В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ : исследования в области мифопоэтического : избранное / Топоров Владимир Николаевич. - Москва : Прогресс : Культура, 1995. - 621, [2] с. - Библиогр. в примеч. в конце работ. - ISBN 5-01-003942-7.
Топоров, В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ : исследования в области мифопоэтического : избранное / Топоров Владимир Николаевич. - Москва : Прогресс : Культура, 1995. - 621, [2] с. - Библиогр. в примеч. в конце работ. - ISBN 5-01-003942-7.
В маринистике Мережковского представлены два этих типа. В первом сборнике «Стихотворения» 1883 года маринистическая лирика полностью соответствует духу «безвременья». Так, в стихотворении «Даль» лирический герой, подобно героям-романтикам, уходит от земного несовершенного мира. Поэт дает противопоставление 2 пространств – прибрежного и земного:
противны мне леса,
Где буйный пир весны томит меня тревогой,
Где душно от цветов, где жизни слишком много...
Стихотворение строится на принципах и противопоставления двух состояний – беспокойства, душевного дискомфорта героя и наполненности жизнью окружающего мира. Он выбирает «бездушную красу» моря, лишенного живого чувства. Лирический герой находится в состоянии душевного кризиса, вызванного пребыванием на земле, а море спасает его.
Здесь только волны, тучи, небеса;
Их вечный полусон таинственно безмолвный
Баюкает мой мозг, недугом знойным полный,
И притупляет боль сознанья моего,
И если долго я гляжу на эти волны,
Где все – движенье, блеск и шум.
Поэт дважды употребляет слово «здесь», обозначающее местонахождение героя между морем и землей. В одном строе у Мережковского свойства моря, которые являются значимыми для героя и которые полностью соответствуют романтическому мировосприятию – неизменность, таинственность, тишина («Их вечный полусон таинственно безмолвный»). Следовательно, для поэта море – свободная стихия, способная помочь человеку и вывести его из душевного кризиса. Меланхоличный герой стремится в морскую даль, которая не обещает ему счастья, но все же прельщает своей недосягаемостью.
Автор уверен, что в стихотворении «Даль» прослеживается влияние Шопенгауэра, учением которого Мережковский был увлечен в начале своего творческого пути. В частности, в стихотворении ярко выражено шопенгауэровское стремление к воле – человек почти добивается свободы, но не испытывает удовлетворения : «О как бы слиться нам, обняться крепче с ней, / Но так, чтоб эта даль могла остаться далью».
Так отражается в стихотворении вечное стремление романтиков к свободе и надежда обрести ее.
В сходном по идее стихотворении «Небо и море» развиваются романтические тенденции, дополняемые авторским видением мироустройства.
Небо и море
Небо когда-то в печальную землю влюбилось,
С негою страстной в объятья земли опустилось...
Стали с тех пор небеса океаном безбрежным,
Вечным, как небо, – как сердце людское, мятежным.
Любит он землю и берег холодный целует,
Но и о звездах, о звездах родимых тоскует...
Хочет о небе забыть океан и не может:
Скорбь о родных небесах его вечно тревожит.
Вот отчего он порою к ним рвется в объятья,
Мечется, стонет, земле посылает проклятья...
Тщетно! Вернется к ней море и, полное ласки,
Будет ей вновь лепетать непонятные сказки.
Мало небес ему, мир ему кажется тесным,
Вечно земное в груди его спорит с небесным!
И вновь из книги Алексея Холикова «Из жизни до эмиграции»:
« - Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода без России?
Она думала минуту.
- Свобода без России, - отвечала она, - и потому я здесь, а не там.
- Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы для меня невозможна. Но... - и он задумывался, ни на кого не глядя, - на что мне собственно нужна свобода, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?»
И он замолкал...
Для одних это молчание несчастного беженца, для других - предателя, для третьих - кого угодно... но только не раба: Мережковский им не был.
Покинув Россию, Мережковский поставил точку в своей прежней жизни. Не сделай он этого тогда, в конце 1919 года, - земной путь писателя, проклинавшего большевиков, мог оборваться самым трагичным образом.
Сомневаться в этом не приходится. Эмиграция спасла Мережковского. Она дала ему тот «воздух», которого не хватало на родине, и положила начало новой жизни, не лучшей, но - другой, требующей от биографа особого постижения и воссоздания. А эпиграфом к ней могли бы стать слова самого Мережковского: «Бедность, Чужбина, Немощь и Старость...
Как тут не вспомнить слова из статьи Ивана Ильина «Мережковский-художник» : «Что же означает всеевропейская популярность Мережковского? Ведь Мережковский считался самым серьезным кандидатом на премию Нобеля. Но чего же стоит тогда европейская слава? Ведь она сама и есть больной туман. Она, по-видимому, родится от отсутствия религиозной и художественной очевидности. Но тогда и судьба ее будет зависеть от восхода духовного солнца. Ибо взойдет солнце духовной очевидности – и все осветится верно, и больная слава растает, как туман.
Мережковский не одинок, и в этих своих соблазнительных блужданиях. И я верю, что когда над Россией взойдет духовное солнце, то все будет пересмотрено в духе и все найдет свое верное место. Можно много говорить о маринистике Поэта-символиста Мережковского, но закончу я все же стихотворением «Когда гляжу я в даль морскую»:
Когда гляжу я в даль морскую,
Я не люблю… любви твоей
Почти стыжусь и все тоскую
О гордой воле прежних дней.
Земной любви, земного горя
Ничтожны жалкие слова
Пред вечной музыкою моря,
Пред этим гимном божества.
Мне чужды все дела людские,
И снова, холодом дыша,
Непобедима, как стихия,
Моя свободная душа.
Продолжим наше путешествие в мир морских грез в поэзии начала XX века.
Я слушал море много лет,
Свой дух ему предав.
В моих глазах мерцает свет
Морских подводных трав.
Я отдал морю сонмы дней,
Я отдал их сполна.
И с каждой песней все слышней
В моих словах волна.
Это Константин Бальмонт. И его Дух Волны.
 «Мне было 16 лет, - вспоминал поэт, - я ехал в санях по широкой, покрытой ослепительно-белым снегом равнине. На горизонте виднелся лес, стая ворон перелетала куда-то в прозрачном воздухе. И вот, совсем неожиданно для себя, я с какой-то особенной остротой, грустью, нежностью и любовью почувствовал этот пейзаж и понял, что я должен быть поэтом».
«Мне было 16 лет, - вспоминал поэт, - я ехал в санях по широкой, покрытой ослепительно-белым снегом равнине. На горизонте виднелся лес, стая ворон перелетала куда-то в прозрачном воздухе. И вот, совсем неожиданно для себя, я с какой-то особенной остротой, грустью, нежностью и любовью почувствовал этот пейзаж и понял, что я должен быть поэтом».
Бальмонт им стал. Да не просто поэтом, а самым музыкальным поэтом Российской империи. Его дар многие сравнивали с даром певчей птицы. Экспромтальность и темперамент Бальмонта поражали, современники отмечали «эмоциональность, воздушно-трепетную впечатлительность» поэта…
«Никто не опутывает душу таким светлым туманом, как Бальмонт. Никто не развевает этого тумана таким свежим ветром, как Бальмонт. Никто не равен ему в его певучей силе», - писал А. А. Блок о К. Д. Бальмонте.
Ему суждено было стать одним из зачинателей нового символического искусства в России. Он понимал символизм как поэзию, которая помимо конкретного смысла, имеет содержание скрытое, выражаемое с помощью намеков, настроения, музыкального звучания. Он был гением поэзии впечатлений и жил в своем мире… мире тончайших мимолетных наблюдений и хрупких чувств.
Поэт родился в деревне Гумнищи Владимирской губернии. Природа его родного края была завораживающе прекрасна. В своей автобиографии Бальмонт вспоминал: "В наших местах есть леса и болота, красивые реки и озера, растут по бочагам камыши и болотные лилии, сладостная дышит медуница, ночные фиалки колдуют…". Быть может, именно красоты родного края зародили в душе поэта столь чуткое видение прекрасного. Как часто, описывая в своих стихотворениях природу, Бальмонт показывает нам её суть, первозданную красоту, силу и волшебство окружающей нас поистине волшебной красоты. Его Лилии завораживают, Камыши нашептывают нам свои тайны, вся природа трепещет, колдует и дышит. Кажется, Бальмонту оказалось под силу разгадать тайны Сумрака и Рассвета, Жизни и Смерти, Земли и Воды, он проник в самую суть окружающей нас природы и смог воспеть ее в своих стихотворениях.
«Когда слушаешь Бальмонта - всегда слушаешь весну. Никто не опутывает души таким светлым туманом, как Бальмонт. Никто не развевает этого тумана таким свежим ветром, как Бальмонт. Никто до сих пор не равен ему в его "певучей силе"», - напишет Александр БЛОК в статье «О лирике», восторгаясь творчеством первого русского символиста, автора, в возрасте пятидесяти лет написавшего «ЛЮБИ» - сонет, вошедший в сборник «Сонеты Солнца, мёда и Луны», изданный в 1917, а затем в 1921 году.
Итоговый в творчестве поэта: вобравший в себя мотивы, поэтические идеи творческого наследия, литературное направление и жанр.
Это у него всё от мамочки - Веры Бальмонт (Лебедевой), родом из семьи военного, большого любителя литературы... Она владела несколькими иностранными языками, отличалась вольнодумством, принимала в своем доме «неблагонадежных» гостей. Бальмонт напишет, что мама не только научила его любить литературу, но и поделилась «душевным строем». Константин был третьим из семи сыновей Бальмонтов, наблюдая, как мама занимается грамотой со старшими братьями, сам начал читать в пятилетнем возрасте. Отец, радуясь успехам сына, подарил первую книгу!
Учился Константин в уездной гимназии в Шуе, примкнул к нелегальному кружку «Народная воля», распространял листовки, за что был исключен из гимназии. В 18-летнем возрасте дебютировал в литературе: три его произведения опубликовал столичный журнал, поступил в Московский университет, изучал юридические науки. Учеба закончилась арестом за участие в студенческих волнениях и высылкой в Шую.
Судьба первого «Сборника стихотворений» была печальной: автор сжег все экземпляры, потому что стихи интереса не вызвали.
Мучительные попытки наладить отношения с первой супругой, закончились… выходом в окно… на мостовую… многочисленными увечьями, лечением, хромотой на всю жизнь, переломным и плодотворным в творческом плане, осознанием своего предназначения.
Потом был Петербург. Прославил Бальмонта сборник «Под северным небом».
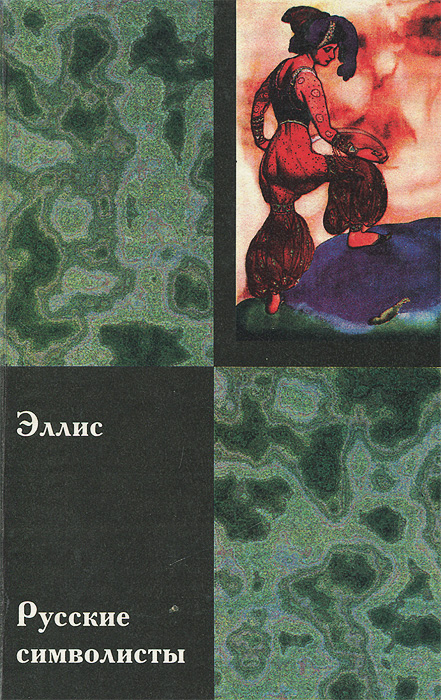 Эллис, (Кобылинский Л. Л.). Русские символисты: Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый / Эллис (Лев Львович Кобылинский). - Томск : Водолей, 1998. - 287 с. : ил. - ISBN 5-7137-0026-7.
Эллис, (Кобылинский Л. Л.). Русские символисты: Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый / Эллис (Лев Львович Кобылинский). - Томск : Водолей, 1998. - 287 с. : ил. - ISBN 5-7137-0026-7.
По словам автора книги «Русские символисты» поэта-символиста Эллиса (именно под таким звучным псевдонимом вошел в историю русской литературы Лев Кобылинский) - по словам Эллиса, одного из лучших исследователей творчества К. Бальмонта, В. Брюсова и А. Белого, стихи полны романтических переживаний, пронизаны безрадостными настроениями, одаренность была очевидной.
Поэт и критик Лев Кобылинский, страстный поклонник Бодлера, стремился подражать своему кумиру - одному из идеологов европейского дендизма, но, как пишет современник, «при ничтожных заработках поддерживать внешность денди ему было трудно». Тем не менее, острый парадоксальный ум и экстравагантная внешность Эллиса надолго оставались в памяти людей, с которыми он общался. Его знакомый вспоминал: «Эллис незабываем и неповторим. Этот странный человек с остро-зелёными глазами, белым мраморным лицом, неестественно чёрной, как будто лакированной, бородкой, ярко-красными «вампирными» губами, превращавший ночь в день, день - в ночь, живший в комнате всегда тёмной, с опущенными шторами и свечами перед портретом Бодлера, а потом бюстом Данте, обладал темпераментом бешеного агитатора, создавал необычайные мифы, вымыслы, был творцом всяких пародий и изумительным мимом».
Выпускник юридического факультета Московского университета, один из основателей кружка «Аргонавты» и издательства «Мусагет», автор стихотворных и прозаических книг, Эллис стал теоретиком русского символизма, литературно-художественного направления, пришедшего в Россию в начале 80-х годов XIX века вместе с увлечением творчеством европейских символистов: Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме и др.
Книга Эллиса «Русские символисты», вышедшая в 1910 году в издательстве «Мусагет», по праву рассматривается как первая в России попытка вскрыть философские и эстетические корни европейского и русского символизма: «Сперва символизм, как новое и односторонне-эстетическое учение, сам приблизился к культуре, желая облачиться в старые доспехи, но все эти доспехи оказались старыми и дряблыми, и вот новое учение незаметно, шаг за шагом, стало перечеканивать все, решительно все культурные ценности; так невольно из жажды культуры символизм стал источником, эту жажду утоляющим. И тогда свершилось чудо: новое учение оказалось старым, исконным, но сохранило и всю свою трепетную, огненную юность; разрушая всё, оно созидало, отрицая - утверждало, богохульствуя, молилось и, сомневаясь во всех «ценностях культуры», само стало живым воплощением культуры». Однако символизм для Эллиса - это жизнетворчество, выходящее за пределы искусства, это «мессианизм, глагол о новом Боге, великая религия будущего».
Эту мысль он иллюстрирует на примере вождей русских символистов К. Бальмонта, В. Брюсова и А. Белого, которые, по его мнению, своим творчеством довели носителей идеи символизма до «ступени искания Единого Первосимвола: им открыт путь в Вечное, а следовательно, и в будущее!» Завершается книга страстным гимном во славу символизма: «Мы верим в великое, мировое будущее символизма!»
Книга «Русские символисты» выдержала за столетие несколько переизданий.
По мнению Эллиса, первым оригинальным творческим выступлением Бальмонта как лирика должно бесспорно считать «Под северным небом». Это первая ласточка новой весны, зябкий букет первых подснежников! Эта маленькая книжечка в 80 страничек была первой книгой истинной поэзии. Этот сборник отличался от своих литературных собратьев тем, что, насколько в них смутные предчувствия, страстная до безумия жажда новых исканий и борьбы за новое кредо преобладали над из чисто-поэтической, бессознательной, внутренне-музыкальной ценностью, настолько же этот опыт Бальмонта был прежде всего книгой поэзии, обладал достоинствами истинно поэтической, ценной безотносительно к направлениям и лозунгам прелестью, ароматом впервые расцветающей поэтической души.
Перелом в творчестве Бальмонта, превратившей его в лирика всех интимных изгибов современной души, начинается значительно позже – с появлением сборника «Горящие здания» или самой значительной и полнозвучной из всех его книг, книги, носящей в самом своем названии близкий новой душе призыв: «Будем как солнце».
Двойственное противопоставление действительности и Мечты, смутного и грустного бессилия «здесь» и бесконечного полета «там», горького одиночества на земле и молитвенного искания христианского неба и глубоких вод моря, доверчивая, чистая и безграничная преклоненность перед Мечтой, едва заметно переходящая в робкий молитвенный шепот, ночное тревожное искание всюду, в природе, в сокровенных душевных исканиях чего-то необычайного, волшебного, болезненно-чуткое прислушивание к той внутренней музыке вещей, которая доступна лишь в редкие момента экстаза, когда душа начинает смутно ощущать невоплощенные части каждой вещи, жажда невыразимой и без улыбки, без слова убедительной гармонии, таинственно разлитой над миром, - вот, в двух словах, самые существенные мотивы лирики Бальмонта.
В сборнике стихов «В безбрежности» продемонстрированы литературные попытки соединить слова с мелодикой, создать блестящие стихотворные формы.
В новом литературном течении он становится признанным мастером слова, творчество - востребованным. «Будем как Солнце», «Только любовь». «Семицветик» - и толпы поклонников, кружки подражателей-бальмонистов, в которых литераторы изучали блистательную форму стихов Бальмонта, его рифмы и то, что называли хрустальными созвучиями. Это была не просто популярность, а настоящая влюбленность в поэта.
Современники Константина Бальмонта называли его «вечная тревожная загадка». По словам Эллиса, у него была масса последователей, был образцом литературного стиля для Марины Цветаевой и Игоря Северянина, Максимилиана Волошина. Самый яркий из поэтов Серебряного века.
Одним из ключевых образов в поэзии К. Бальмонта является образ Моря. Что совсем не удивительно, ведь романтическая душа поэта и сама была подобна воде, бесконечно движущемуся и прекрасному потоку. Бальмонт, словно Чайльд-Гарольд, всю свою жизнь находился в поисках «Единственного пристанища», он много путешествовал, не мог подолгу засиживаться на одном месте, был противником однообразия и серых дней… Он будто искал и искал чего-то… Об этом стихи, вошедшие в цикл «Ветер с моря» книги стихов «Тишина».
Морская песня
Все, что любим, все мы кинем,
Каждый миг для нас другой:
Мы сжились душой морской
С вечным ветром, с Морем синим.
Наш полет
Все вперед,
К целям сказочным ведет.
Рдяный вечер, догорая,
Тонет в зеркале Небес.
Вот он, новый мир чудес,
Вот она, волна морская.
Чудный вид!
или
Все мне грезится Море да Небо глубокое,
Бесконечная грусть, безграничная даль,
Трепетание звезд, их мерцанье стоокое,
Догорающих тучек немая печаль.
Все мне чудится вздох камыша почернелого.
Глушь родимых лесов, заповедный затон,
И над озером пение лебедя белого,
Точно сердца несмелого жалобный стон.
Море чуть мерцает под Луной
Зеркалом глубоким и холодным
Веет сном и грустью неземной,
Чем-то дальним, сладостным, свободным.
Точно дух навек ушедших дней
Встал в тени немых воспоминаний,
Стал шептать слышней и все слышней
Сказку счастья с музыкой рыданий.
Светочем болезненным сверкнул,
Ярко вспыхнул дрогнувшей слезою,
Прожил миг - и в бездне утонул,
Бросив свет широкой полосою.
Цикл «Ветер с моря», как отмечает автор книги Лев Кобылинский, полон биения, жизни и ритмического колыхания волн, зовами безумного морского бриза. В нем полет ввысь сменяется жаждой подводных глубин и мертвых просторов морского дна.
Даже небо в стихотворении, подобно Морю, глубокое. Лирический герой грезит о безграничных далях и вспоминает пейзажи родного края. Картину безграничного покоя поэт рисует в следующем стихотворении: «Меж подводных стеблей».
Хорошо меж подводных стеблей.
Бледный свет. Тишина. Глубина.
Мы заметим лишь тень кораблей.
И до нас не доходит волна.
Неподвижные стебли глядят,
Неподвижные стебли растут.
Как спокоен зеленый их взгляд,
Как они бестревожно цветут.
Отдельное место в поэзии Бальмонта занимает образ Русалки. Мы встречаем его во многих стихотворениях поэта. Русалка Бальмонта всегда прекрасна, холодна, и, так часто, она является возлюбленной лирического героя.
Стоит упомянуть, что образ Русалки довольно широко использовался в классической русской литературе и до Бальмонта. К нему обращались такие знаменитые поэты, как В. Жуковский, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, Н. Гумилев, и многие другие. О русалках часто повествуют русские народные поверья, но, кроме этого, интерес к данному образу подогревало и увлечение античной мифологией, где так часто встречались наяды, нимфы и сирены. Следовательно, довольно часто этот образ в русской поэзии стал сочетать в себе черты персонажа русской и античной мифологий. Конечно, образ обнаженной Русалки с рыбьим хвостом вместо ног – это, скорее, влияние античных мифов, ведь традиционная, русская Русалка, во-первых, не обязательно красива, (сравним с бесконечно прекрасными античными Сиренами, заманивающими своим прекрасным голосом корабли на скалы), во-вторых, она обладает вполне человеческой внешностью, а живет не только в водоемах, но и в полях, лесах; русская Русалка не поет, она завлекает смехом или, напротив, пугает диким хохотом, будучи скорее ужасной, чем прекрасной. И хотя в русском фольклоре считается, что Русалками становятся девушки-самоубийцы, а поэтому чаще всего Русалки все же нам представляются молодыми и красивыми, тем не менее, они не обладают чарами Сирен или романтической Лорелеи, они не «Дочери Моря».
Но именно прекрасную «Дочь Моря» мы так часто встречаем в поэзии Бальмонта.
Она, как русалка
Она, как русалка, воздушна и странно-бледна,
В глазах у нее, ускользая, играет волна,
В зеленых глазах у нее глубина - холодна.
Приди, - и она обоймет, заласкает тебя,
Себя не жалея, терзая, быть может, губя,
Но все же она поцелует тебя не любя.
И вмиг отвернется, и будет душою вдали,
И будет молчать под Луной в золотистой пыли,
Смотря равнодушно, как тонут вдали - корабли.
Силу души гениального поэта можно сравнить с морской стихией. Ведь он все время был в движении, все время менялся, играл, подобно волнам… Море ассоциировалось у Бальмонта с бесконечным покоем, всеобъемлющей субстанцией, таинственной древностью... Он черпал из него силу, искал отдыха на побережьях, а смысл жизни – в волнах. Он был Певцом Моря. И, возможно, самым прекрасным.
«На каждом бальмонтовском жесте, слове – клеймо – печать – звезда – поэта», - сказала М. Цветаева о Бальмонте. Брюсов писал о нем: «Бальмонт безраздельно царил над русской поэзией. Другие поэты покорно следовали за ним или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния».
И говорить о нем можно было бы бесконечно. Ведь «Стихийный солнечный гений» прочно вошел в сердца читателей как предтеча символизма… Золото Серебряного века.
Как, впрочем, и все остальные гении русской поэзии, о которых сегодня говорили или только упомянули.
Завершаю наше морское плавание стихотворением «Полоса света», где вновь мы слышим знакомые нам звуки.
Море чуть мерцает под Луной
Зеркалом глубоким и холодным
Веет сном и грустью неземной,
Чем-то дальним, сладостным, свободным.
Точно дух навек ушедших дней
Встал в тени немых воспоминаний,
Стал шептать слышней и все слышней
Сказку счастья с музыкой рыданий.
Светочем болезненным сверкнул,
Ярко вспыхнул дрогнувшей слезою,
Прожил миг - и в бездне утонул,
Бросив свет широкой полосою.
Ирина Борисовна Бомейко, главный библиограф справочно-библиографического отдела ГБУК «Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова»

